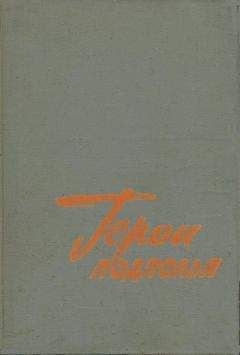Лев Самойлов - Пароль — Родина
Сильный взрыв потряс домик, от порыва ураганного ветра зазвенели стекла окон, заскрипели в палисаднике деревья. Испуганно заржала Регера, нетерпеливо бившая копытом о землю. Теперь Карасев отчетливо услыхал винтовочную и пулеметную стрельбу, взрывы гранат, далекий гул. Тревога! Хорошо, что он прилег на койку не раздеваясь. Скорее туда, на границу!..
Точно подброшенный стальной пружиной, Карасев выпрыгнул в распахнутое окно и чуть не сшиб коновода Смышляева, бросившегося будить командира.
— Скорее! — крикнул Карасев, вскакивая в седло.
Через мгновение он во весь опор мчался в штаб комендатуры. Густую темноту ночи разрывали сверкающие пулеметные очереди и винтовочные залпы. А когда воздух сверлил с железным шуршанием и свистом снаряд, через мгновение раздавался тяжелый удар, и земля, освещенная огненной вспышкой, вздрагивала и дыбилась. «Гаубица», — невольно подумал Карасев. Но иногда и вой доносились уже после того, как прогрохотал разрыв: вслед за гаубицами стреляли пушки.
Дорога была хорошо знакома Регере, и она не скакала, а летела, распластав в воздухе сильное, гибкое тело. Позади не отставал на своем жеребце Смышляев. Всего минуту назад он тоже крепко спал в палисаднике под грушей, опустившей к земле отяжелевшие ветви. В ночь с 21 на 22 июня Карасев почти до рассвета находился на границе и только недавно, всего какой-нибудь час назад, усталый, и проголодавшийся, добрался до своего домика, свалился на койку и мгновенно заснул. А сейчас, сидя в седле и подгоняя шенкелями Регеру, он не чувствовал ни сонливости, ни голода, ни усталости. Сердце тревожно стучало, в голове билась и обжигала мозг одна страшная мысль: «Война!.. Война!..»
Да, это была война. Она пришла с того, чужого берега. Оттуда били пушки и минометы, прерывисто строчили пулеметы, а по реке, еще не видные Карасеву, уже переправлялись лодки и паромы с румынскими и немецкими солдатами.
За те несколько минут, что Карасев скакал до штаба, все личное, домашнее, сердечное отодвинулось, рассеялось, исчезло, как исчез только что привидевшийся чудесный сон. Почему-то память подсказывала только последние слова майора Соловьева, сказанные еще вчера на берегу Прута. Пожимая руку Карасева, Соловьев, высокий, костистый, повернулся лицом к востоку и необычно взволнованно, с грустной торжественностью в голосе проговорил:
— Да, брат… Родина!.. Вон она, там… — Он вытянул руку, не замечая этого. — А нам велит быть здесь… Что же, постоим, если придется…
Какое-то предчувствие, видимо, томило майора, что-то тревожило его, и он замолчал, оборвав себя на полуслове. Но и то, что он успел рассказать, заставило сильнее забиться сердце Карасева.
Родина!.. Знакомые, родные, любимые елецкие места, где промелькнуло детство. Школа ФЗО в Мичуринске и Кочетовский железнодорожный узел, где началось отрочество… Тульские заводы, которые он охранял в ночных караулах, став красноармейцем… Полк НКВД в Москве… зеленый солнечный Киев… Широкая, убегающая вдаль лента Днепра… Мечты о будущем… Зоя… Все это — Родина.
Но сейчас, в эти минуты, на родной земле рвутся фашистские снаряды и бомбы, кромсают сады и виноградники, поджигают и поднимают в воздух крестьянские дома… Все, что вошло в плоть и кровь Карасева в семье, с детских лет, все, что пришло в сердце, в сознание вместе с армией, с комсомолом, с партией, в которую ой собирался вступать, — все это сконцентрировалось сейчас в одном, таком коротком и таком большом слове — Родина!
Вперед, Регера!.. И Регера несла его навстречу встающему новому дню — дню 22 июня 1941 года.
В комендатуре все было поднято в ружье. Передовые пограничные посты уже вели бой. Бледный комендант шагнул навстречу Карасеву и хриплым от волнения и усталости голосом крикнул:
— На первую заставу!.. Бойцы во дворе… Действуйте, товарищ лейтенант!..
Карасев быстро и коротко, по-уставному, повторил приказание и с группой солдат, уже ждавших его, поспешил на заставу.
Боевые участки первой заставы располагались юго-западнее села Бедражи, в районе моста через реку Прут. Выдвинутые вперед посты специально охраняли подходы к мосту и половину моста, примыкавшую к советскому берегу. Большой, массивный, он висел над водой, тяжело опираясь о речное дно, и уходил вдаль, на румынский берег.
Здесь кипел жаркий бой. На настиле первого пролета моста лежал, широко раскинув ноги, сержант Назарук и пулеметными очередями сметал вражеских солдат, пытавшихся продвинуться по мосту. На берегу в блиндажах, в зарослях и кустах по обе стороны моста залегли стрелки и два других пулеметчика — Кубатько и Бондаренко. Они встречали метким огнем лодки противника, приближавшиеся к берегу. С лодок трещали винтовочные и пулеметные выстрелы. Артиллерийские снаряды и тяжелые мины со свистом рассекали воздух и рвались та далеко позади пограничников, то за несколько метров до кромки воды. Перелет… Недолет… Фашистские артиллеристы пристрелялись плохо, и это давало возможность пограничникам держаться на месте, почти не неся потерь.
Но лодок и паромов становилась все больше, они шли волна за волною, и некоторым из них удалось пристать к берегу. Когда Карасев с бойцами подскакал к мосту, из нескольких лодок уже выпрыгивали на берег гитлеровцы. А на них уже набегали, кололи штыками, били прикладами и стреляли в упор бойцы-пограничники, поднявшиеся в штыковую атаку. Их была всего горсточка, молодых, необстрелянных ребят. На все они дрались так, будто уже не раз участвовали в жарких боевых схватках и все, что происходило сейчас на берегу и в воде, было им знакомо и привычно.
Отбив первую попытку противника высадиться на советский берег и захватить плацдарм, бойцы рассредоточились вдоль берега и открывали огонь, как только на реке показывались лодка или паром.
Вытерев вспотевшее, разгоряченное лицо, Карасев прижался к земле рядом с пулеметчиком Бондаренко. Всегда спокойный, даже несколько флегматичный, Бондаренко, казалось, не утратил этих своих особенностей и сейчас. Почти не шевелясь, лежал он у пулемета, хладнокровно посылал очередь за очередью и только изредка что-то шептал про себя и скрипел зубами.
В двух шагах от Карасева лежал Терехов. Вернее, не лежал, а вертелся на земле. Голова его непрерывно поворачивалась во все стороны, плечи то поднимались, то опускались, глаза лихорадочно блестели. Зная характер этого непоседливого бойца, Карасев был уверен, что Терехов нетерпеливо ждет очередной волны вражеских лодок и готов, не дожидаясь их приближения, сам кинуться в воду и плыть туда, на тот берег, чтобы бить, крушить все, что попадется на пути.
Больше всего поразил Карасева младший сержант Вальков. Щеголеватый и самоуверенный, он не раз, бывало, форсил перед товарищами, хвастался своим умением играть на гитаре и петь чуть в нос нарочито грустные, томные песни. Иногда казалось, что Вальков слишком влюблен в себя и готов, в ущерб учебе и службе, заниматься «артистической деятельностью», то есть художественной самодеятельностью. А сейчас Валькова не узнать. Ни щеголеватости, ни форса, ни улыбки. Лицо потемнело, скулы заострились… В штыковую атаку он поднялся одним из первых. А когда кто-то крикнул, что пулеметчик Назарук ранен или убит, Вальков подскочил к Карасеву и быстро, задыхаясь, проговорил:
— Товарищ лейтенант… Разрешите мне…
Но Карасев уже приказал Терехову:
— К пулемету!..
И Терехов побежал — именно побежал, а не пополз — к пулемету, и через минуту РДП[4] заработал так же уверенно, как и в руках Назарука.
На других боевых участках тоже не затихала стрельба. Везде противник, пытавшийся внезапно форсировать Прут и высадиться на наш берег, встречал упорное, ожесточенное сопротивление пограничников, принявших на себя первые удары войны.
Вода бурлила и кипела от пуль и снарядов. Солнечный шар уже висел в голубом, будто прозрачном небе, обливая землю по-летнему горячими лучами. А с земли к солнцу, к маленьким пушинкам-облачкам, проплывавшим в вышине, тянулись клубы пыли и смрадного дыма от горевших домов и крестьянских построек.
Командный пункт Карасева находился в блиндаже с правой стороны моста. Воспользовавшись короткой паузой, Карасев решил связаться по телефону с комендатурой, доложить обстановку. Больше всего его беспокоил мост. Пока что ни один снаряд, ни одна мина не зацепили мост… Это хорошо или плохо?.. Если фашисты сосредоточат большие силы, они, конечно, прорвутся через мост на танках или бронемашинах на нашу сторону.
В это время в блиндаж протиснулась длинная фигура майора Соловьева.
— Ну как, жарко? — спросил он, не здороваясь и останавливая жестом лейтенанта, приготовившегося рапортовать.
— Жарко, — ответил Карасев, понимая, что командира отнюдь не интересует температура воздуха.
Соловьев сразу же перешел на официальный тон.